
 - Преподавательская семья, четверо детей, трудное выживание в девяностых. В принципе, этим всё сказано. Очень хорошо помню детский сад. Сад номер семьдесят один, «Чайка», на улице Терешковой. Тёплый весенний вечер, мы гуляем на площадке. Я стою у металлического забора, смотрю на бледно-розовый дом на противоположной стороне улицы и напряжённо считаю в уме: «В семь лет я пойду в школу – 1985. Плюс десять – институт, 1995. Ещё пять (сколько учатся в ВУЗе я знал от родителей) – 2000, то есть я пойду работать. Это мне будет 22. Теперь отнимем от 60-ти – 38. Значит, на пенсию я выйду только в 2038 году?!». Эта мысль меня пугает.
- Преподавательская семья, четверо детей, трудное выживание в девяностых. В принципе, этим всё сказано. Очень хорошо помню детский сад. Сад номер семьдесят один, «Чайка», на улице Терешковой. Тёплый весенний вечер, мы гуляем на площадке. Я стою у металлического забора, смотрю на бледно-розовый дом на противоположной стороне улицы и напряжённо считаю в уме: «В семь лет я пойду в школу – 1985. Плюс десять – институт, 1995. Ещё пять (сколько учатся в ВУЗе я знал от родителей) – 2000, то есть я пойду работать. Это мне будет 22. Теперь отнимем от 60-ти – 38. Значит, на пенсию я выйду только в 2038 году?!». Эта мысль меня пугает.
То есть уже этой осенью я попаду в оборот, где мне придётся крутиться аж 53 года? Только через полвека я стану совершенно своим собственным, с головы до ног принадлежащим только себе самому? Лишь через эту адову кучу долгих лет я смогу с утра выйти во двор и сколько душе угодно прокладывать трамвайную колею загнутыми краями металлического совка и подписывать острой палочкой остановки – площадь Труда, улица Чайковского, Мукомольный переулок?
Лишь одно примиряло меня с бесперспективным будущим. В 2017 году я увижу Столетие Великой Октябрьской Социалистической Революции. По моим представлениям это должен был быть Грандиозный Праздник.
Я был очень советским ребёнком, как, наверное, каждый из нас. У папы есть фотография – на пустой обледенелой Советской площади реют красные флаги, перед облисполкомом стоит трибуна, здание украшено кумачом. Ни души – праздник завтра. А сегодня на плацу только два маленьких ребёнка. Это мы с братом.
Жизнь обманула во всём. Но назло ей я продолжал оставаться советским человеком. Меня привлекало двуединство великой идеи братства и освобождения людей с практикой их расчеловечивания и порабощения. Все юношеские годы вокруг меня пионерские горны захлёбываясь трубили о частной инициативе и свободном рынке, но я читал антиутопии и пытался разобраться в трактатах советологов, пытаясь отделить светлую фракцию социализма от тёмной. Ничего у меня не вышло. Впрочем, это не помешало мне на всех выборах ставить галки только коммунистам. За действующего президента я не голосовал никогда.
В школе я был аутсайдером, по всем предметам, моё «три» было ближе к «двум». Кроме истории и химии. Химия мне почему-то понравилась с самого первого урока, и оказалось, что если слушать подряд, то всё очень просто. А история позволяла обеспечить себя положительными оценками эпизодическим трудом, что было невозможно, скажем, с математикой и физикой. На этих предметах я бесконечно рисовал и чертил – папка с этими тетрадями попадалась на глаза при переездах.
Школа была повинностью, которую нужно с минимальными потерями для ума и здоровья пересидеть до двух. Потом начиналась жизнь. Ситуация изменилась только в последних двух классах. Я перешёл в Провинциальный колледж, который закончил на одни четвёрки, а на истфаке Демидовского университета уже учился вполне нормально.
- Кто были ваши учителя?
Это очень трудный вопрос. В первую очередь вспоминаются учителя в прямом школьном смысле, но речь, наверное, не об этом. Давайте я отвечу о тех, кто дал мне определённые ориентиры, кроме, конечно, родителей, потому что любой человек в первую очередь делает свою жизнь с оглядкой на отца и мать. Это безусловно, но кто кроме них?
В ранней юности мне очень нравился Маяковский. Потом его образ померк на фоне гораздо большего поэтического явления.  Это Николай Заболоцкий. Объём и образы его стихов настолько громадны, что, на мой взгляд, позволяют считать автора самым крупным русскоязычным поэтом столетия. Конечно, в этом восторге меня мало кто поддержит, но философия, которую он вкладывает в безупречную стихотворную форму, не может вдохновлять каждого. Вселенная – самое большое, что мы можем воспринять, но много ли среди нас звёздных астрономов, которые всерьёз увлечены её изучением?
Это Николай Заболоцкий. Объём и образы его стихов настолько громадны, что, на мой взгляд, позволяют считать автора самым крупным русскоязычным поэтом столетия. Конечно, в этом восторге меня мало кто поддержит, но философия, которую он вкладывает в безупречную стихотворную форму, не может вдохновлять каждого. Вселенная – самое большое, что мы можем воспринять, но много ли среди нас звёздных астрономов, которые всерьёз увлечены её изучением?
Заболоцкий для меня важен не только как поэт, но и как человек. В тридцатые сажали многих, но мало кто перенёс это так, как он. Заболоцкий выжил ровно потому, что он не сломался. Его пытали, он терял рассудок, но в самые мутные минуты краем сознания хранил одно – никого не оговорить. И на этом литераторе развалилось дело ленинградских писателей. Заболоцкий не дал показаний на Тихонова и Корнилова, но также не признал виновным себя, именно этим избежав расстрела.
Часто говорят, что поэта сломало заключение, после которого он стал писать «не так». Это чушь. Его творчество развивалось по внутренним законам, и если выкинуть из его свода годы лагерей и ссылки, то мы не найдём разрыва, хотя формы ранних и поздних стихотворений действительно далеко отстоят друг от друга. Подчёркиваю – форма, но не содержание.
Удивительным образом начальник кафедры номер один Ярославского Зенитного Ракетного Института ПВО Сергей Григорьевич Осьмачко напоминал Заболоцкого внешне. Большой, округлый блондин с румяным лицом и в очках. Под его началом я проработал всего год, но я до сих пор время от времени вспоминаю то, что за это время от него услышал.
Проходя по коридору, я останавливаюсь у аудитории, за которой Осьмачко читает лекцию по Екатерине II. Она ввела новый воинский устав, о котором рассказывает Сергей Григорьевич. Его командирский голос хорошо слышен из-за двери. Неожиданно лектор предлагает проверить, насколько хорошо знают нынешний устав курсанты. Он говорит: сейчас идёт суд над солдатами, которые в Чечне раздавили своей бронемашиной жигули с местными жителями. После ДТП экипаж стал вытаскивать пострадавших, а один из солдат связался со штабом. Сбросьте машину в пропасть, типа, сами убились, и продолжайте выполнять задание, слышит он по рации. Те выполнили приказ. «Верно ли они поступили?» - спрашивает Осьмачко.
Конечно, отвечает аудитория, а один из курсантов бодро рапортует: «Статья 40 - приказ командира должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок»
Тогда за что сейчас солдатиков судят? - спрашивает Осьмачко.
Аудитория ропщет.
А лектор, выждав, продолжает – за то, что плохо знали устав. Как и вы, кстати. Вот, к примеру, статья три требует от военнослужащих строго соблюдать Конституцию и законы России. В данном случае выполняя приказ они совершили преступление.
«Что же надо было делать?» – уныло спрашивают курсанты.
Учить устав, - чеканит Осьмачко. Та же статья 40 гласит, что военнослужащему не могут отдавать приказы, не имеющие отношения к военной службе или направленные на нарушение закона. Вот о чём нужно было предупредить офицера. Доложить, что приказ вызывает сомнения, и попросить его повторить. Если бы тот осмелился это сделать – обжаловать. А тут из штаба кто-то что-то им в рацию каркнул, а волну к делу не пришьёшь. Когда история выплыла наружу, никто из офицеров не признался. Документа нет, и солдатики оказались крайними. И вы будете крайними, если не выучите, наконец, Устав. Следующее занятие начнём с контрольной.
Звучит звонок, и я отхожу от двери с убеждением, что как бы между делом на лекции о Екатерине II будущие офицеры получили урок, более важный, чем весь российский абсолютизм.
И ещё один человек – мамин брат. Дядя Вова был небольшим функционером в КПРФ. В редкие встречи я спорил с ним о социализме, обкатывая свои мысли и доводы. От него я знал о дрязгах в компартии, о диктатуре Зюганова и вспышках «охоты на ведьм», с помощью которых тот очищал свою вотчину от инакомыслящих. Это в своё время остановило меня от участия в политике, потому что кроме компартии я нигде себя не видел, но от коммунистов так густо тянуло портянкой, что оставалось лишь расстраиваться по поводу их казарменного сталинизма, совершенно неуместного для оппозиционной партии.
- До сих пор многие ярославцы переживают за тот факт, что в Ярославле перестало вещать «Эхо Москвы». После того как Вы перешли на работу в петербургское отделение радио «Эхо Москвы», учредители ярославского «Эха» пытались найти Вам замену, говорили о том, что, может, Вы еще вернетесь в Ярославль, но в итоге по сути вещание было закрыто и частоту отдали под очередное музыкальное радио. Расскажите свою версию того, что реально произошло на «Эхе» и почему оно все-таки перестало вещать в Ярославле? Может, это все-таки был «политический заказ»?
- Я не хочу рассказывать свою версию, потому что решающие для «Эха» события стремительно развернулись после моего ухода. Я знаю о них также, как и любой другой – из третьих рук.
- Из третьих?
 - Хорошо, быть может из вторых, но суть от этого не меняется – их очевидцем я уже не был. Если же кому-то будут интересны спекуляции на эту тему, то они у меня есть.
- Хорошо, быть может из вторых, но суть от этого не меняется – их очевидцем я уже не был. Если же кому-то будут интересны спекуляции на эту тему, то они у меня есть.
Мне кажется, что «Эхо» в Ярославле закрыли потому, что оно никому не было нужно.
Зачем общественно-политическая радиостанция в регионе, где нет ни общественности, ни политики?
По первому пункту наверняка будут возражения, но они связаны лишь с тем, что если посреди укатанной паровым катком поляны лечь на живот, то даже одинокий лопушок может показаться морем зелени.
Вся ярославская общественность ограничена фейсбуком. Люди, которых беспокоит ситуация во власти, экономике и обществе, знают друг друга лично. Если мы возьмём весь спектр мнений, то наберём не более ста человек. Хорошо, даже если три сотни – всё равно это знакомые и знакомые знакомых. Нужна ли им радиостанция? Думаю, нет.
Ещё несколько лет назад ситуация была другой. Разумеется, число активных граждан в регионе существенно не поменялось. Но сильно изменился их качественный состав. Раньше мы говорили, что «Эхо» слушают люди, которые принимают решения. Наши программы обсуждали депутаты, мы получали отклик от руководителей департаментов и замов губернатора, о нас говорили хозяева крупного бизнеса и главные врачи больниц, против нас интриговали из мэрии и областного правительства, на нас жаловались политики и чиновники. Мы были важным посредником между властью и всем обществом, а вовсе не рупором общественности – активной его части. Мы доносили позицию власти до тех, кто был с ней не согласен, и делали мнение несогласных заметным. Мы подкрашивали струи прозрачного раствора. Если хотите – это была миссия.
С приходом нового губернатора всё изменилось. Прежний, Ястребов, тоже сидел, как мы говорили, за розовыми ставенками, однако его окружение хотело хорошо выглядеть, в первую очередь, в своих собственных глазах, и во вторую – в глазах соседей по коттеджным посёлкам. В нас они видели свою совесть; не все, а те, кто сохранил воспоминание о том, что когда-то она у них была.
- Сейчас руководство области не хочет выглядеть никак. Значимые лица выстроены в вертикаль, поэтому у любого звена пирамиды может быть только один источник одобрения или неодобрения. Эта власть ничего не сообщает о себе, она обвешивает себя пресс-релизами как новогодняя ёлка серпантином – для красоты, в её блёстках нет функционала, и если дерево после праздника можно хотя бы пустить на туалетную бумагу или сунуть в печь, то это в любом случае отправится на помойку.
А пока шоу продолжается, но что толку говорить об очередных разносах, которые закатывает дистанционно руководящий областью Миронов своему дистанционно руководящему Ростовским водоканалом подчинённому, или выговорах никому не интересного Волкова никому не известным чиновникам мэрии? Для СМИ в любом случае работы хватает – можно разбирать кого угодно - Правительство, мэрию, депутатов или беспросветную Карабихскую больницу, но места для посредника во взаимоотношениях власти и общества уже нет. Они друг другу не интересны.
На днях я прочитал на «Знаке» интервью экономиста Михаила Дмитриева и психолога Анастасии Никольской. В нем кто-то из них употребил очень точное определение этого состояния. Это развод.
 Раньше между обществом и властью были разные коллизии – они как муж и жена и любили друг друга, и бранились, и сходились в объятиях, и разбегались по разным комнатам. Сейчас они просто опротивели друг другу. Отношения закончились, на их место пришло равнодушие. Попытки контакта обе стороны воспринимают с раздражением: «Да оставьте же нас в покое!»
Раньше между обществом и властью были разные коллизии – они как муж и жена и любили друг друга, и бранились, и сходились в объятиях, и разбегались по разным комнатам. Сейчас они просто опротивели друг другу. Отношения закончились, на их место пришло равнодушие. Попытки контакта обе стороны воспринимают с раздражением: «Да оставьте же нас в покое!»
В такой ситуации не нужен ни комментатор, ни парламентёр. Всем всё равно. Остаются лишь активисты, которые в любой ситуации будут принимать происходящее близко к сердцу. Прочие разошлись по углам, а за общим столом слишком мало народа, чтобы на эту группу работала целая (пусть и небольшая) радиостанция.
Большая корявая надпись на стене перед ярославским истфаком гласила: «Марксизм – сила». Я думаю, её помнят многие студенты второй половины девяностых. Пропал базис, и надстройка упала. Если считать это политическим заказом, тогда да – это заказ. Изменится ситуация – будет заказ на возрождение, понадобится средство коммуникации. Может быть даже «Эхо» вернётся в Ярославль. А может это будет кто-то другой. Но сейчас этого заказа нет.
- Как Вы считаете, Вы уже вполне освоились в качестве журналиста на питерском «Эхе»? Есть ли какая-то специфика работы в радиоэфире в мегаполисе и в таком относительно небольшом городе как Ярославль?
 - Вполне освоиться на радио, мне кажется, невозможно. Здесь всегда есть место для чего-то ещё. Разумеется, в питерской редакции я на приставном стульчике, но иначе и быть не может. Тем более, что в Ярославле я всегда знал, что было раньше. Теперь я не знаю ровным счётом ничего, и даже названия улиц и районов постоянно приходится гуглить.
- Вполне освоиться на радио, мне кажется, невозможно. Здесь всегда есть место для чего-то ещё. Разумеется, в питерской редакции я на приставном стульчике, но иначе и быть не может. Тем более, что в Ярославле я всегда знал, что было раньше. Теперь я не знаю ровным счётом ничего, и даже названия улиц и районов постоянно приходится гуглить.
Специфика работы связана в основном с тем, что здесь всё-таки сравнительно большая редакция, по сравнению с которой ярославской «Эхо» из двух-трёх человек кажется чем-то ненастоящим. В Ярославле не было чёткого разделения труда, многое происходило само собой, мы не проводили даже недельных планёрок – всё решалось мимоходом, за разговорами о событиях и новостях. Здесь же приходится многое переспрашивать и уточнять, чтобы сделать именно то, что нужно.
Разумеется, в Питере намного больше новостей. От этого есть и минус – часто некогда вникать в подробности, и то, что в Ярославле могло стать темой целого эфира, здесь пролетает минутным сюжетом в выпуске.
- Вы не жалеете, что покинули Ярославль? Ведь Вы были здесь «звезда», а в Питере явно - лишь один из многих?
 - Я всегда был лишь один из многих. И в Ярославле «звездой» я точно не был. Я был частью маленькой, но редакции, и в команде из двоих или троих человек я, за исключением очень короткого и давнего периода, всё время был вторым номером.
- Я всегда был лишь один из многих. И в Ярославле «звездой» я точно не был. Я был частью маленькой, но редакции, и в команде из двоих или троих человек я, за исключением очень короткого и давнего периода, всё время был вторым номером.
Мотором ярославского «Эха» была сначала Анна Богданова, а потом Людмила Шабуева. Вот их можно считать звёздами. А я – самый обычный человек, лишь немного более заметный на общем фоне в силу своей работы.
Ни в какие звёзды я просто не гожусь. Уже в детском саду я составил план жизни, и в нём ничего про это не было. Злодей Путин, что этот план поломал. Кстати, меня можно смело выбирать президентом, потому что с первого дня моего первого и последнего срока я начну беспокоиться о том, как уйти в отставку таким образом, чтобы в качестве обычного пенсионера спокойно ходить по улицам без охраны.
Вообще меня всегда привлекали именно вторые роли. Знаете, есть такой популярный вопрос – с кем из исторических личностей вы хотели бы поговорить (в моём случае, наверное, взять интервью). Так вот, если вести речь о советской истории, то Сталин не так интересен, как Молотов.
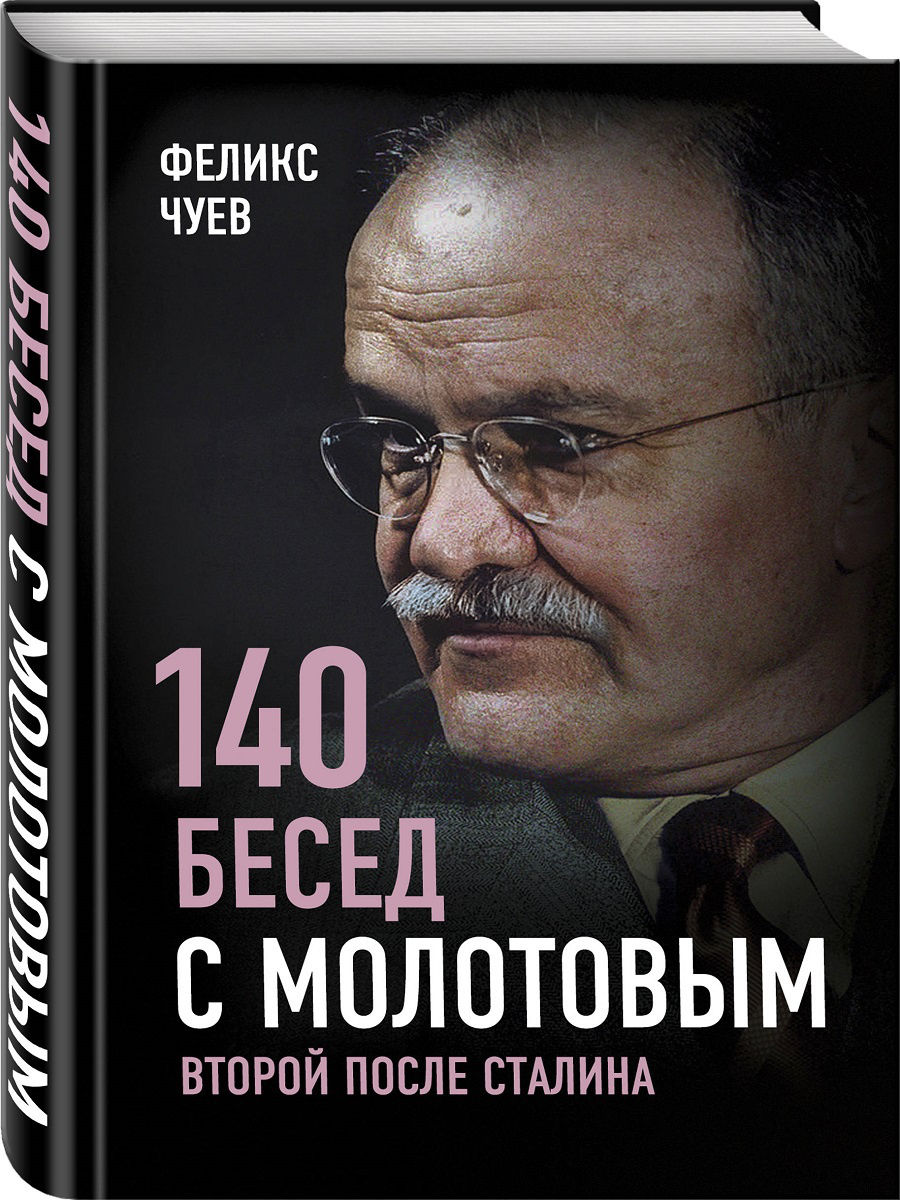
Он осмеливался не просто спорить с вождём, но демонстрировать ему, что остался при своём мнении после резкого разговора. Генералы и маршалы позволяли себе такое только во время войны, а Молотов – всегда, даже когда взяли жену, и во время назревавшей опалы начала пятидесятых. Как он это оценивал? Что чувствовал? Как он представлял себе масштабы своей личной власти? И где видел границы в общении с первым лицом? А оттепель? А монгольский период?
Чуев (для справки: Феликс Чуев – поэт и публицист, которому посчастливилось взять 140 коротких интервью у В.М.Молотова в период с 1972 по 1985 гг., когда старый большевик уже находился на пенсии. Книгу, которую Ф.Чуев опубликовал уже после смерти Молотова в 1991 г., автор назвал коротко и емко, – «140 бесед с Молотовым») был связан расположением Молотова, поэтому о многом не спросил. Кроме того, его вопросы – продукт семидесятых, сейчас этот разговор строился бы иначе. Точно так же Суслов для меня интереснее Брежнева, и даже среди первых коллективист Ленин мне ближе индивидуалиста Троцкого.
Так что если я о чём-то и жалею, то только об увеличении пенсионного возраста. Всё остальное не так уж и существенно. Вернее, почти всё.
Б.Немцов: «М.Нуждин – плохой журналист»
- Что дала Вам работа в Ярославле?
- Трудно ответить на этот вопрос, потому что это невозможно отделить от того, что дала мне вся моя жизнь. Возможно, понимание конечности себя и своих ресурсов. Не знаю. Наверное, ничего специфически ярославского в том, чем я обладаю, нет. А может – всё специфическое. Сорок лет позади, и все они – в Ярославле. Наверное, чтобы ответить, надо прожить ещё столько же.
- Вы смотрели фильм об американском радиожурналисте Говарде Стерне «Части тела»? Что Вам кажется важным в профессии радиожурналиста вне зависимости от эпох, континентов и идеологии?
- Не смотрел и, наверное, не посмотрю. Он всё время у меня в планах, но никогда не был там первым пунктом, постоянно находится что-то ещё.
 Мне не кажется, что в работе журналиста на радио есть какая-то специфика, которой нигде больше нет. Да и вообще работа журналиста в моём случае – совпадение случайных факторов. По образованию я историк, на радио попал по стечению обстоятельств, и также в силу внешних причин стал журналистом.
Мне не кажется, что в работе журналиста на радио есть какая-то специфика, которой нигде больше нет. Да и вообще работа журналиста в моём случае – совпадение случайных факторов. По образованию я историк, на радио попал по стечению обстоятельств, и также в силу внешних причин стал журналистом.
Мне как-то Немцов сказал – знаешь, не обижайся, но ты – плохой журналист. Вот Антон Туманов – хороший. Знаешь почему? Он – любопытный. А ты – нет.
Было совершенно не обидно, потому что это правда. По существу, я так и остался историком. Мне не так интересно, что происходит, и даже не так важно – почему. Всё это – лишь материал для обобщения и классификации. Вот это происходящее, суть – что? И на что оно похоже? Что за этим стоит и к чему движет? Это важные для меня вопросы. А события и факты – лишь оформление глубинных процессов. Констатировать действительность – метеорология и топография. Мне важны выводы, а на каком материале они сделаны – тема введения, которое важно постольку, поскольку заключение работы оправдывает себя. По капле воды рассказать об океане – это действительно интересно.
Невзоров так описал эту позицию: «Я человек в халате, а не в пижаме». Наблюдение за процессом, изучение, трансляция, интерпретация, то есть суть работы журналиста, для меня только средство для осознания себя в этом мире. Но позиция автора имеет смысл в публицистике. Журналист – раб факта. В отличие, кстати, от историка, который должен видеть глубинные взаимосвязи и закономерности.
Моя работа даёт мне материал для размышлений. В этом я вижу и миссию журналиста – предоставлять такой материал слушателям. В любом эфире самым важным мне кажется показать позицию своего собеседника, помочь ему рассказать о том, что он видит, и как это оценивает. Но если я начну при этом излагать свои выводы – я выйду за рамки профессии. Мне нужно извлечь из шахты породу, а что из неё пустит в дело аудитория – это её дело. Мои выводы – это мои дивиденды от журналистики, но, если я стану их транслировать, я потеряю необходимую в работе отстранённость и нейтралитет.
О профессии радиожурналиста
- Что в профессии современного российского радиоведущего Вам кажется самым важным и самым главным? Есть ли какая-то разница между российскими радиоведущими и западными?
- Вы мне вопросы задаёте, как будто я какое-то светило. Это не так, правда. Я знаю ответы, но, честно, не думаю, что они кому-то могут быть интересны. Мы же понимаем, что если о профессии радиоведущего рассуждает Познер, то это может иметь вес, а если, прости господи, Нуждин, то это вообще – кто?
После этого предуведомления соизмеряя величины, о сути вопроса.
 Начнём с того, что я вообще не представляю, как работают западные радиоведущие. Во время моих малочисленных путешествий за границу я общался с коллегами и вынес из этого, что проблемы у всех одни и те же. Главное – это баланс между фактами и позицией редакции, которую часто, что бы на этот счёт ни говорил закон, обуславливает мнение крупных рекламодателей, спонсоров или собственника. У тех же американцев есть свои установки – «мы же республиканское СМИ, а наш мэр – республиканец, понимаете?» Хорошо, если журналист разделяет их от чистого сердца, а если нет? Приходится немножко модифицировать себя и работать в заданных условиях, втайне завидуя коллегам-демократам, которые позволяют себе «жестить» на ошибке власти, пока она принадлежит оппонентам. Из таких компромиссов строится любая работа в любом обществе, потому что на журналистике сходятся интересы многих сторон, в том числе и тех, от которых прямо зависит лично автор материала. Ну а если таких интересов нет – поздравьте себя, вы выбрали неактуальную тему, которая никого не трогает. Оставьте её, и ищите то, что вызовет чью-то дрожь.
Начнём с того, что я вообще не представляю, как работают западные радиоведущие. Во время моих малочисленных путешествий за границу я общался с коллегами и вынес из этого, что проблемы у всех одни и те же. Главное – это баланс между фактами и позицией редакции, которую часто, что бы на этот счёт ни говорил закон, обуславливает мнение крупных рекламодателей, спонсоров или собственника. У тех же американцев есть свои установки – «мы же республиканское СМИ, а наш мэр – республиканец, понимаете?» Хорошо, если журналист разделяет их от чистого сердца, а если нет? Приходится немножко модифицировать себя и работать в заданных условиях, втайне завидуя коллегам-демократам, которые позволяют себе «жестить» на ошибке власти, пока она принадлежит оппонентам. Из таких компромиссов строится любая работа в любом обществе, потому что на журналистике сходятся интересы многих сторон, в том числе и тех, от которых прямо зависит лично автор материала. Ну а если таких интересов нет – поздравьте себя, вы выбрали неактуальную тему, которая никого не трогает. Оставьте её, и ищите то, что вызовет чью-то дрожь.
Поэтому в своём кругу журналисты часто уточняют, «кто чьих». Опытному человеку это сразу многое объясняет. Быть совсем «ничьих» могут себе позволить только сотрудники маленьких независимых редакций или суперзвёзды. Впрочем, и те соизмеряют себя со внешними обстоятельствами: «живя в обществе, нельзя быть свободным от него», и этим всё сказано.
Это – общая проблема. О частностях я просто ничего не знаю.
Впрочем, её одной, доведённой до края, достаточно, чтобы говорить о ней бесконечно. В России она, как и многое в современном капиталистическом обществе, обострена до предела. Любой российский журналист вынужден интуитивно балансировать на вершине из трёх граней: власть, собственник, совесть. Если он смещается в любую из сторон, он теряет профессию. Можно даже не объяснять: поссоришься с собственником – потеряешь работу, с властью – деньги или свободу, с совестью – принадлежность к журналистике.
А ну как сразу с двумя? Лучше не думать.
Где-то ситуация не так драматична – в широком спектре изданий можно найти единомышленников и трудиться с ними, не думая о выборе долгие годы. У нас СМИ, позволяющих себе самостоятельное мышление, очень мало, попасть в них – большая удача. Поэтому взвешивать приходится очень часто, практически всегда. При этом есть варианты – работать в культуре или спорте, где, впрочем, есть свои подводные камни; отключать на службе голову, освещая, то, куда пошлют так, как скажут, а после работы честить её на все корки; найти социальную тему, на которой можно сидеть всю жизнь, делая общественно значимое дело в полном соответствии с самыми высокими стандартами журналистики, и не пересекаться с тем, что может раздавить, не заметив.
Лично мне почему-то везёт. Я снова попал в прекрасный коллектив, где могут быть претензии к качеству твоей работы и объективности твоего материала, но не к тому, что он не соответствует какой-либо редакционной политике или высокой установке.
Поэтому главное для российского журналиста – не потерять себя. Каждый из нас может вспомнить примеры людей, которые ради выживания набросили на себя плащ смирения, чтобы скрыться в общей массе, а потом, заглянув под полу, ничего там не нашли. Их суть высохла и выветрилась без света, осталась лишь накидка, которую уже не сбросить, потому что формы под ней нет.
Почему радио до сих пор не умерло?
- Как Вы думаете, почему радио до сих пор не умерло? Ведь с момента начала эпохи телевидения, многие аналитики и прогнозисты предрекали смерть радио как средства массовой информации?
- Это потому, что телевизор нельзя смотреть фоном. Вообще смотреть фоном ничего нельзя, потому что человек четыре пятых информации получает через зрение. Фоном телевизор можно слушать, но тогда он становится непомерно дорогим радиоприёмником.
 О достоинствах радиовещания можно говорить очень долго, поэтому я перечислю самое очевидное.
О достоинствах радиовещания можно говорить очень долго, поэтому я перечислю самое очевидное.
Первое: восприятие речи на слух – самый древний способ передачи данных. Человек стал человеком, когда заговорил об отвлечённом, и другой человек понял его речь. Люди всё время смотрят на собеседника или картинку, но как до изобретения письменности, так и после появления телевидения, что-то существенное люди узнают только с голоса. Конкурент радио – чтение, а не видео.
Второе: в отличие от чтения или смотрения, радио обращается не только к сознанию, но и к подсознанию человека. Это связано как с тем, что часто мы слушаем приёмник, когда ум занят чем-то другим, так и с тем, что органы слуха человека гораздо изощрённее органов зрения. Спицы двух крутящихся колес для нас быстро сливаются в сплошные диски, хотя по звуку мы легко определим, какое вращается быстрее.
Третье: радио выдаёт лжецов. Тот, кто пытается соврать, непроизвольно стремится обмануть именно зрение сидящего перед ним собеседника. Но только очень хороший актёр может заставить лукавить голос. Много раз я видел, как ловко передёргивает и темнит в эфире мой собеседник. Он быстро выходит из противоречий, на которые я ему указываю, уверенно врёт в ответ на прямое «да или нет», и объявляет ложью всё, что говорит о его обмане. И тем не менее, после этого я слышал или читал реплики – вот как имярек изоврался сегодня в эфире! Да, гость ушёл из студии довольный тем, что обманул меня, своего единственного зрителя. Но на слух его интонации, паузы, фальшь и дрожь в голосе сказали за него всё, о чём он хотел умолчать.
Может быть, всё это только мои собственные теории. Может, завтра мы все придём в какую-то новую реальность, или уже сегодня кто-то объяснит мне, что я несу чушь, но пока думается так. Мне кажется, что радио будет жить столько, сколько люди разговаривают друг с другом, и умрёт только тогда, когда мы научимся передавать образы прямо в мозг. Вопрос в том, как изменится способ донесения аудиоконтента. Здесь, я уверен, нас ждут большие перемены.
- Радио «Комсомольская правда» сейчас пытается копировать лучшие практики и достижения радио «Эхо Москвы». Как Вы к этому относитесь?
- Молодцы! Если у них получается взять и развивать лучшее, этому можно только порадоваться. Буду в Ярославле – обязательно послушаю их. Полумиллионному городу нужно своё интересное разговорное радио. Пусть не общественно-политическое, но – интересное.
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки
- Как Вы считаете, чем принципиально отличается информационное радио от музыкального? Роль радиоведущего и там, и там в принципе одинакова или нет?
- Роли, конечно, разные. Они пересекаются, но кроме наложения есть и специфические области.
Работа ведущего информационной радиостанции – почти всегда журналистика, даже в развлекательных программах. Задача ведущего музыкальной станции – излучать эмоции. Помните про подсознание? Что бы ни происходило в эфире, ведущий должен быть весел и оптимистичен. Гордон пытался победить этот стереотип в «Хмуром утре», но в итоге «победился» сам. Ну а принцип работы информационного вещания можно проиллюстрировать уже упомянутым Заболоцким:
Царя ли свергнут или разом
Скотину волк на поле съест,
Они сидят, гуторя басом,
Про то да се узнав окрест.
Это стихотворение «Отдыхающие крестьяне». Кстати, чуть дальше можно найти и музыкальную радиостанцию, а точнее – мастерский образ танцпола. Сейчас клубы закрыты на карантин, так что эта картина кажется такой далёкой, поэтому снова цитата:
Вот толпа несется, воет,
Слышен запах потной кожи,
Музыканты рожи строят,
На чертей весьма похожи.
В громе, давке, кувырканье
«Эх, пошла! — кричат. — Наддай-ка!»
Реют бороды бараньи,
Стонет, воет балалайка.
«Эх, пошла!» И дым столбом,
От натуги бледны лица.
Многоногий пляшет ком,
Воет, стонет, веселится.
Очень хочется обратить внимание на ритм, как рисунок строфы упорно повторяется в каждой строчке, и вообще перевести разговор на поэзию, но вернёмся к теме. Если под второй картиной понимать музыкальную радиостанцию, то перед нами всё современное радиовещание.
- Вы понимаете для какой аудитории Вы вещаете? Как Вы думаете, что это за люди? Они в принципе одинаковы по своему социально-демографическому профилю в разных городах или в целом похожи?
 - Ещё один сложный вопрос. Дело в том, что радио вынуждено догадываться о своей аудитории. В России нет надёжной социологии, которая бы показывала, кто и когда слушает ту или другую радиостанцию. В идеале нужно что-нибудь типа телеметров, которые у нас ставил зрителям Гэллап: человек одновременно с телевизором включает прибор, который отслеживает, кто и что смотрит. Для радио таких приборов нет, да и телеметров вне столиц было слишком мало для надёжной оценки аудитории. Поэтому слушателей меряют по опросам репрезентативной выборки, но эти опросы проходят раз в неделю, поэтому их результаты весьма приблизительны.
- Ещё один сложный вопрос. Дело в том, что радио вынуждено догадываться о своей аудитории. В России нет надёжной социологии, которая бы показывала, кто и когда слушает ту или другую радиостанцию. В идеале нужно что-нибудь типа телеметров, которые у нас ставил зрителям Гэллап: человек одновременно с телевизором включает прибор, который отслеживает, кто и что смотрит. Для радио таких приборов нет, да и телеметров вне столиц было слишком мало для надёжной оценки аудитории. Поэтому слушателей меряют по опросам репрезентативной выборки, но эти опросы проходят раз в неделю, поэтому их результаты весьма приблизительны.
Так что образ слушателя любая редакция представляет себе довольно приблизительно. Мне кажется, что, несмотря на половозрастные диаграммы в замерах аудитории, каждый по большому счёту работает для зеркала. Разумеется, мы часто просим гостей пояснить то, что отлично представляем сами, потому что «слушатель не обязан знать», но в общих чертах любой ведущий делает свои передачи для кого-то, кто по характеру, общему уровню, направлению понятий о мире и устройству души похож на него самого.
Не знаю, насколько этот ответ соответствует вопросу, но другого у меня нет. По моим наблюдениям меня действительно слушают примерно такие, как я. Не знаю, насколько это хорошо.
Об авторитетах в профессии
- Кого из ныне здравствующих или уже ушедших от нас радиожурналистов Вы считаете образцом для подражания, с кого бы Вы хотели брать пример?
 - Мне очень нравится, как работал Сергей Доренко. Мне хотелось бы брать с него пример, но я знаю, что это бесполезно, потому что я от природы медленный. Доренко обладал очень быстрым синтетическим мышлением. Его ум мгновенно охватывал весь объект целиком и тут же выдавал большую цепь ассоциаций, показывающих нам не столько - что это, сколько – на что это похоже.
- Мне очень нравится, как работал Сергей Доренко. Мне хотелось бы брать с него пример, но я знаю, что это бесполезно, потому что я от природы медленный. Доренко обладал очень быстрым синтетическим мышлением. Его ум мгновенно охватывал весь объект целиком и тут же выдавал большую цепь ассоциаций, показывающих нам не столько - что это, сколько – на что это похоже.
Впервые я общался с ним в разгар обсуждения ярославского служебного гаража. О, благословенные времена, когда депутаты ещё могли говорить о том, что интересно людям, а в облдуме что-то обсуждали! Так вот, я спросил - зачем депутатам казённые машины?
- Так они всё время пьяные, - молниеносно отреагировал Доренко. – «С утра как начнут в своём думском буфете пропускать, а потом мы видим, что они несут на заседаниях. Это же тотальный бред. К вечеру ходить не могут, приходится развозить. Вы почитайте, что они там принимают. В трезвом состоянии так работать невозможно.
- Но у них там такие серьёзные лица, глядя на них мне как-то не верится...
 - Я вам скажу про серьёзные лица. Это запор. Я внимательно наблюдал за своим котом. Самое серьёзное лицо он делает, когда сидит на лотке. Они же мало двигаются, депутаты, у них проблемы с перистальтикой, кишечник даёт сбои. Отсюда бывают трудности, регулярные запоры, серьёзные лица. А вы думаете, они над законами думают? Ерунда! Больше движения, пешие прогулки, велосипед, плавание - и вся серьёзность пройдёт. Сразу заработают, как новенькие.
- Я вам скажу про серьёзные лица. Это запор. Я внимательно наблюдал за своим котом. Самое серьёзное лицо он делает, когда сидит на лотке. Они же мало двигаются, депутаты, у них проблемы с перистальтикой, кишечник даёт сбои. Отсюда бывают трудности, регулярные запоры, серьёзные лица. А вы думаете, они над законами думают? Ерунда! Больше движения, пешие прогулки, велосипед, плавание - и вся серьёзность пройдёт. Сразу заработают, как новенькие.
Буквального восприятия здесь мало, а ответы на вопросы далеки от собственно ответов. Это - серия образов, ярких штрихов, расцвечивающих реальность. Это не рассказ о явлении, это - его показ. Я не знаю кого-то, кто мог бы так же пользоваться словом.
В то же время сам Доренко мастерством серьёзного лица владел в совершенстве. Это я пытаюсь перенимать, хотя удаётся не всегда. Какую бы шпильку я ни вкладывал я в свою реплику, какую бы ахинею не нёс мой собеседник, моё лицо должно выражать лишь уважительное внимание.
Выводы должен делать слушатель.
- Александр Невзоров для Вас это – феномен журналистики или нет?
 - Не знаю. Наверное, я вообще плохо себе его представляю. Феномен – Доренко, и на его фоне Невзоров, пожалуй, нет. Видите, тут есть один критерий, по которому Доренко выпадает из журналистов своего поколения. Я могу взять какое-нибудь событие и представить, что по его поводу скажет тот же Невзоров. Или Познер. Или Ганапольский. Или Сванидзе. Но что о нём скажет Доренко – я не могу представить. Он был совершенно непредсказуем. И ещё – актуальным. Всё-таки его ровесники с годами приобрели налёт ископаемости, а этот был на волне, до самой байкерской смерти.
- Не знаю. Наверное, я вообще плохо себе его представляю. Феномен – Доренко, и на его фоне Невзоров, пожалуй, нет. Видите, тут есть один критерий, по которому Доренко выпадает из журналистов своего поколения. Я могу взять какое-нибудь событие и представить, что по его поводу скажет тот же Невзоров. Или Познер. Или Ганапольский. Или Сванидзе. Но что о нём скажет Доренко – я не могу представить. Он был совершенно непредсказуем. И ещё – актуальным. Всё-таки его ровесники с годами приобрели налёт ископаемости, а этот был на волне, до самой байкерской смерти.
Да, но конечно, речь совершенно не идёт о том, что Доренко следовал стандартам и канонам журналистики. Он был скорее шоуменом, которого вряд ли заботил вопрос об объективности. Но не обязательно учиться всему. Надо брать только хорошее, а плохое помнить для того, чтобы избегать.
О себе… нелюбимом. И любимом.
- Какие свои положительные и какие отрицательные качества Вы выделяете?
- Про главное отрицательное свойство я уже упомянул. Я – медленный. Слишком многое соображаю задним числом. А положительные… Знаете, есть такой инстинкт – «если больше некому». На лекции засовывается в аудиторию мужчина и говорит, что нужны добровольцы таскать парты. Никто, разумеется, не хочет. И в паузу после очередного нарочито бодрого призыва я против своей воли, и даже ругая себя, поднимаюсь и иду к завхозу.

Иногда это помогает мне выглядеть храбрее, чем я есть, иногда – портит жизнь. Не знаю, чего здесь положительного, но остальное выглядело бы грубой лестью, а льстить себе не хочется.
- Чего бы Вы хотели достичь в журналистике?
- Мне бы очень хотелось, чтобы у меня взяли интервью. Не как у участника какого-то проекта, а лично у меня самого, какой я есть. И эту мечту вы только что осуществили.
- Чего Вы хотели пожелать ярославцам?
- Двух вещей. Первая – это спокойствие и достаток (суть одно и то же; достаток без спокойствия – скорее недостаток, а спокойствия без достатка не бывает). И вторая – сильного сообщества граждан, и широкой общественной жизни.
Взаимоисключающие явления, верно?
А я хочу, чтобы они взаимно дополняли и поддерживали друг друга.
И главное – что бы ни случилось в жизни, я искренне желаю все ярославцам выйти на достойную пенсию в 60, а ярославнам – в 55 лет.
Да будет так!
Беседовал Родион Рогожин